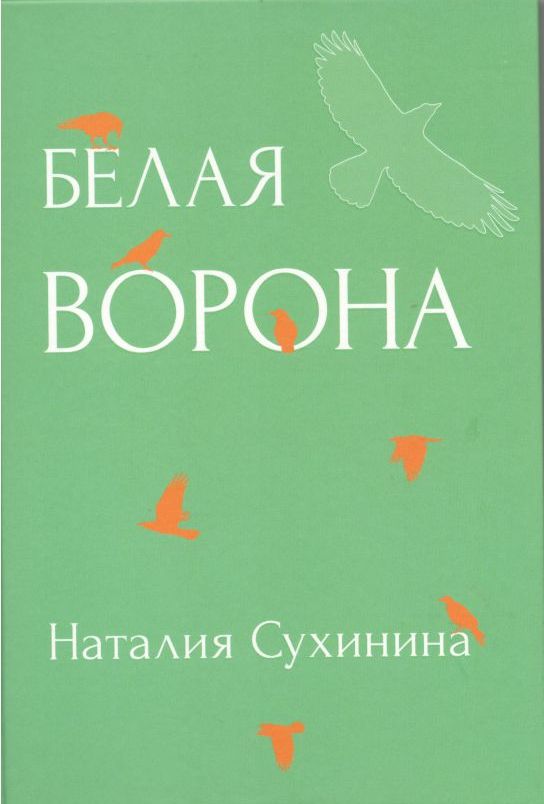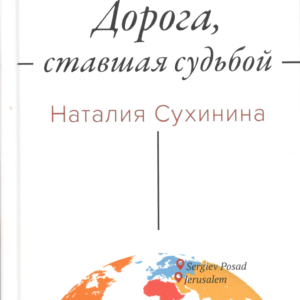«Белая ворона»
«Жизнь даётся человеку… человеку… раз, нет, — один раз. Жизнь даётся человеку один раз и надо…» — Наташа запнулась, прикусила в досаде губу, скосила глаза в хрестоматию, раскрытую в порыве жертвенной любви верной подругой Анфиской. Видно было плохо.
— Наташа… — строго и назидательно начала Антонина Кузьминична, — на тебя это непохоже. Не выучить такой маленький, такой простой текст…
— Я учила. Забыла немного. — Наташа упрямо мотнула головой. — Вспомнила, сейчас… Жизнь даётся человеку один раз и прожить надо, нет — и прожить её надо так, чтобы… — Наташа обречённо исподлобья взглянула на учительницу — видать, не выкрутиться.
— «…Не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» — громко, свистящим отчаянным шёпотом продекламировала Анфиска.
Класс дружно расхохотался. Засмеялась и Антонина Кузьминична, вытирая кончиком носового платка слезящиеся под очками глаза.
— Мне, конечно, мучительно больно, но выше двойки я тебе ничего поставить не могу, — произнесла она своим привычным, назидательным тоном, отсмеявшись. — Мне жаль огорчать твою маму, которая лежит в больнице и ей так нужны положительные эмоции. Мне жаль огорчать и твою старшую сестру, она, бедная, как белка в колесе крутится, стараясь изо всех сил прокормить вас с братом, одеть, обуть. Да, Наташа, ты меня сегодня очень огорчила…
Наташа и сама расстроилась. Ну не могла она вчера выучить текст про жизнь, которая даётся один раз. Только никому про это не скажешь. Только бы Тося (так единодушно звал 5«б» Антонину Кузьминичну) не вызвала старшую сестру, только бы не вызвала…
А Тося вызвала:
— Завтра пусть сестра придёт. Мне надо серьёзно с ней поговорить…
— Она не может! — неожиданно для самой себя громко и испуганно выкрикнула Наташа.
— Передай, что я настаиваю, — Тося повернулась к окну, дав понять девочке, что разговор окончен.
Они с Анфиской не шли, а тащились домой. Молчали, горюнились. Анфиска была подругой верной и настоящей. Наташа знала, что она ни за что не станет её успокаивать, потому что Наташа этого не может терпеть. И предлагать Наташе свою помощь Анфиса не станет, например, поговорить со старшей сестрой Мариной и убедить её, что Наташа ни в чём не виновата, она всего то разок сбилась, а так всё правильно рассказала про жизнь. И всё таки Анфиска рискнула: предложила подруге за неё заступиться, но Наташа, чего и следовало ожидать, сверкнув глазами, произнесла угрожающе:
— Не лезь в мою личную жизнь. Поняла?
Вот и молчали. Вот и тащились.
У подъезда своего дома Наташа грустно кивнула Анфиске — пока, мол, до завтра.
Анфиска жалостливо взглянула на подругу, потом спохватилась — нельзя жалостливо, и, быстренько пристегнув к своим пухлым губкам озорную улыбку, махнула Наташе рукой и зашагала споро и весело.
А дома Наташа принялась хлопать дверями ванной, кухни, опять ванной. Это она так успокаивалась. А потом с разбега как бросится на старый, с потёртыми подушками диван, как заголосит по бабьи, пронзительно и некрасиво.
— Надоело! Всё надоело! А Тоська со своими текстами! И врать надоело! Всем вру-у-у … — она размазывала слёзы по горячим щекам. — И этот дурак Васька надоел! Брат называется…
Вчера брат разлил кастрюлю с супом, помогать полез: «Я сам, Наташ, я сам», — холодильник открыл, схватил кастрюлю.
— Целая кастрюля! — она опять заголосила. — Суп фасолевый, на неделю наварила…
Горько ей плакалось и сладко. Потому что позволила себе то, что позволяла очень редко. В эти минуты она себя — жалела. Всхлипывала, всхлипывала, да и заснула. Свернулась калачиком, руку под щёку — хорошо…
Проснулась от испуга, как от выстрела. Проспала! Ваську из садика забирать, потом — в больницу к маме. Ой, мамочки… Вскочила, трёт глаза, схватила будильник. Опоздала! Васька в садике один остался, попадёт ей от Васькиной воспитательницы. Куртку с крючка, руки в рукава — уже в лифте, дворами, вприпрыжку — за Васькой.
Успела. Васька спокойно играл в песочнице с рыженькой девочкой из его группы. Слава Богу, не последний.
— Василий! — крикнула от забора. — Бегом ко мне!
Мальчик помчался ей навстречу — счастливый, нетерпеливый, ловкий. Маленькие ножки проворно стучали по тротуарной плитке, ну и несётся!
— Василий, не беги, упадёшь! — испугалась.
Мальчик послушно остановился и удивлённо на неё посмотрел:
— Сама сказала — бегом…
Наташа засмеялась. Вот уж действительно — то беги, то не беги… «Бедный мой Васик». Она почувствовала, как тёплая волна любви к брату накрыла её целиком, и сердце от той любви сладостно сжалось.
Мальчик послушно вложил свою ладошку в Наташину руку:
— К маме пойдём? — спросил он доверчиво.
— К маме, Вася, к маме. Но ты не забыл про нашу тайну?
— Не забыл! — брат вскинул на Наташу радостные глаза и выпалил: — Мы не скажем маме, что живём одни, потому что она будет плакать и долго болеть.
— Молодец! Ты у меня самый лучший на свете брат.
И они пошли к маме. Вася держался молодцом и в очередной раз ни о чём не проговорился. Мама устало улыбалась, гладила по головке Васю, молчала. Наташа стала в последнее время замечать, что мама всё меньше и меньше интересуется жизнью детей, будто догорает в ней что-то, едва-едва теплится и вот-вот догорит совсем.
В прошлый раз врач сказал Наташе, что у мамы от долгого лежания началась болезнь с мудрёным названием — депрессия. Это, объяснил он, когда неинтересно жить. Всё неинтересно: какая погода за окном, какие люди приходят её навестить, даже самые близкие.
— Даже дети? — спросила Наташа врача. Спросить-то спросила, а ответ услышать страшно.
— Бывает, даже дети… — уклончиво ответил врач. — Редко, но бывает.
Теперь девочка видела, что врач был прав. Даже дети…
— Открыть окошко? — спросила маму.
— Не надо… Васю просквозит, — ответила мама глухим, потухшим голосом. — Вы уж идите, поздно уже…
Бедная, бедная мама. Уже два года она в больнице. Неожиданно отказали ноги. Слегла с температурой, ничего страшного. Шутила ещё:
— Поваляюсь, отдохну, а то совсем я с вами замоталась.
Повалялась несколько деньков. Листала модные журналы, отводила душу в телефонных разговорах. Потом встала, неделю проходила на работу, да всё жаловалась — сил нет, ноги как ватные. И — слегла. Приходили врачи — разводили руками. Мама всё ещё надеялась, что обойдётся, не унывала, она вообще, сколько Наташа её помнит — всегда как огонь. Маленькая Наташа часто слышала, как про её маму говорили — красивая. А ещё говорили, что старшая сестра Марина — копия мамы, такая же красивая. Наташа обижалась, про неё никто не говорил, что она похожа на маму. Маринка действительно хороша в маму, у неё даже голос мамин — с лёгкой хрипотцой, Наташа всегда их путает по телефону.
А у Наташи голос обыкновенный и сама она обыкновенная. Волосы тёмные, как у мамы, но не густые и не вьются, а у Маринки — жгуче-чёрные, а когда она их распускает, по плечам струятся умопомрачительными волнами. Маринка знает это и распускает их часто.
А Наташа носит косичку. Косичка так себе, обыкновенная, не мышиный хвост конечно, но — ничего особенного. Если бы Наташа распустила свои волосы, они бы тоже, наверное, струились, не как у Маринки, но струились бы. Но мама не разрешает — только косичка, и Наташа ждёт не дождётся, когда вырастет и сможет распускать волосы сто раз на дню.
Маринка высокая, как мама, тоненькая. Летом, когда она надевает цветную юбку, то становится похожа на цыганку. И нрав у неё цыганский, бесшабашный.
Наташа тоже с характером, вон как Анфиской крутит. Но мама говорит, что с Наташей всегда можно договориться.
Наташа училась в первом классе, когда Маринка задумала выходить замуж. Мама отговаривала — рано, но Маринка и слушать не хотела. Кричала маме про любовь, про счастье, про многое другое кричала. А жених Маринкин был студентом её института, педагогического. Да к тому же — негр. Мама потому и убивалась: зачем Марине негр, мало ей женихов в России? Маринка упрямая — «мало» говорит, да ещё маме пригрозила: «Не разрешишь по-хорошему, уеду без расписки в Гвинею, больше ты меня не увидишь». Они часто ссорились и кричали друг на друга.
Конечно, победила Маринка. Мама махнула рукой: «Делай, что хочешь». Тут закрутилось! Маринка стала готовиться к свадьбе, носиться по магазинам, салонам, приносила домой пачками глянцевые журналы мод со свадебными платьями. Уж Наташа насмотрелась на эти платья! А один журнал спрятала. В журнале — закладка. Она выбрала платье для себя. Платье не белое, а слегка, совсем чуть-чуть, кремовое, как чайная роза, оно вольно струится до пола, спадая лёгкими, едва обозначенными складками. Широкий рукав напоминал тонкую шаль, небрежно наброшенную на плечи, он был прозрачен и сквозь него смело угадывался контур красивых рук манекенщицы.
— Летом в нём хорошо, — практично взвешивала все «за» и «против» первоклашка Наташа, — а если придётся свадьбу зимой играть? Холодновато…
— Летом! Только летом! — приняла окончательное решение девочка. И — спрятала журнал подальше от Маринкиных острых глаз. До срока.
А Маринка продолжала бушевать. Она переругалась с подругами, которые вразумляли её насчёт негра. Таскала его по гостям, он смущённо, белозубо улыбался, отказывался от водки, но охотно ел сырокопчёную колбасу и бананы. Говорил он по-русски плохо — смешно и забавно, на Маринку смотрел влюблёнными глазами и прилюдно целовал её руку.
День свадьбы приближался. А ссоры с мамой не прекращались. Мама готовилась к свадьбе дочери несколько лет, копила деньги на квартиру молодым, в каком сне ей могло присниться, что зятем её окажется чёрный, с фиолетовым отливом, Джон из Гвинеи.
Мама работала главным инженером на мебельном комбинате. Человек не последний, деньги у неё водились. Наташа ещё маленькой слышала от соседей: «Твоя мама молодец, жить умеет». Маринка знала о её накоплениях и требовала положенного. Мама сопротивлялась. Она даже отказалась от смотрин, от знакомства с Маринкиным мужем: «Свадьбу сыграю, деваться некуда. А бо/льшего от меня не требуй!»
Маринка сверкала чёрными глазами, топала ногами, стучала по столу кулаками.
Наташа очень переживала. Маринку она побаивалась. Маму ей было жалко. Ведь мама родила Васика незадолго до смерти отца. Рядом с сильной, красивой, самодостаточной мамой отец не смог проявить себя как личность. Работал на закрытом предприятии — «ящике», денег приносил мало, маме не перечил, дочек любил, но выпивал. Сначала понемногу, потом пристрастился. Мама боролась за него, лечила, решила даже третьего родить, а он тихо-тихо угасал. Васик родился слабеньким и так не познал радостей ребёнка, у которого есть папа. Умер отец тихо, как и жил. Однажды утром, проснувшись, Наташа увидела пустую папину постель и стоящую у окна плачущую маму. Началось время без отца.
…Свадьба получилась шумной и бестолковой. Маринка, вся из себя красавица, крутилась юлой вокруг своего гвинейца, отплясывала, отчаянно хохотала. Мама сидела за столом с Васей на коленях, чужая, безучастная, а когда ей дали слово напутствовать молодых, напряглась, встала, взяла в руки бокал с вином, высоко подняла голову — ну, копия Маринка — и сказала с Маринкиной хрипотцой:
— Смотрите, жизнь не прозевайте, она короткая…
Маринка глянула исподлобья да и захохотала опять. Гвинеец обнял её, и Наташа, сидевшая рядом, вздрогнула: ну и чернющие руки на фоне белоснежного Маринкиного платья, прямо страх какой-то…
И уехала Маринка в Гвинею.
Да и приехала через три месяца — подурневшая и злая. Никому ничего не объяснила. Только в первой же ссоре бросила маме в лицо:
— Из-за тебя. Была бы квартира… А ты! Ты счастья своим детям не хочешь!
— Из-за меня?! — у мамы от гнева перехватило дыхание. — Из-за дурости своей. Из-за упрямства!
Долго ругались. Маринка билась в истерике, мама то и дело капала себе что-то из флакона.
Из дома сестра ушла. Устроилась секретаршей в автоколонну, там ей дали общежитие. Собрала вещи, распустила по плечам волосы, очами сверкнула: «Нет у меня дома. И матери нет».
— Иди, иди, — зло бросила вслед мама, — нагуляешься, придёшь, никуда не денешься.
Но Маринка упрямая. Так в общежитии и жила. Первое время приходила забрать кое-какие вещи, а потом обустроилась и — пропала. Когда мама обезножила, она попросила Наташу позвонить сестре:
— Так и скажи — мать зовёт. Объясни, как в больницу ехать.
Наташа не видела, как встретились мама и Маринка. Но вскоре сестра объявилась. Не одна. С высоким круглолицым парнем в тугих потёртых джинсах, кожаной куртке. Парень по-хозяйски прошёл на кухню, принялся молча выставлять из сумки на стол банки, пакеты, коробки.
— Это вам! — широко улыбнулась Марина.
— Марин, можно шоколадку? — спросил Вася, с восторгом глядевший на это вдруг свалившееся на него богатство.
— Бери, бери! Не стесняйся. — И шепнула Наташе:
— Поговорить надо.
Они закрылись в комнате. Говорили. Вернее, говорила Марина, а Наташа смотрела на неё и плохо её понимала.
— Наташ, давай начистоту. Мать просто умоляет меня переехать к вам, потому что врачи ничего хорошего ей не обещают. Васька маленький, да и ты — двенадцать лет, соплячка. Всё понимаю! Мать плакала и умоляла меня вас не бросать. Но я, Наташ, не могу. Мне надо свою жизнь устраивать, — она покосилась на дверь. — Тебе нравится Вадим?
Наташа пожала плечами.
— Он… он только вчера предложил мне… к нему переехать. Наташ, ты же большая уже, пойми, я хочу счастья! А Вадим… ну, сама понимаешь. Поживите одни. Ты у нас всегда была самостоятельная, ну, что ты, Ваське кашу не сваришь, в сад его не отведёшь? Деньгами помогать буду. Продуктов на первое время хватит.
— А мама? Мама-то как? Ведь она же, если узнает…
— А давай ей ничего говорить не будем? Ты ей скажи, что я с вами, как она проверит?
— Марин, ты что, с ума сошла? А школа? Как же я…
— Наташенька, ну, пожалуйста, ну, очень тебя прошу! Ну, пожалей свою несчастную сестру. Наташенька… Хочешь, я тебе колечко подарю, — она ловко сняла с пальца серебряное с голубым камушком кольцо и надела его на Наташин палец. Кольцо, конечно, оказалось велико.
— Жалко… Но его можно пока на большом пальце носить.
Наташе очень нравилось колечко. Но то, что предлагала Маринка, не укладывалась в её голове. Она растерянно крутила колечко на пальце, смотрела на сестру полными ужаса глазами.
— Марин, да как же я…
— Молча! — вдруг вспылила Марина. — Значит так, вы будете жить с Васькой одни. Если что — звони, телефон знаешь. Всё! Разговор окончен.
Вадим пару раз заглянул в комнату. Марина заторопилась. Измазанный шоколадом Вася счастливыми глазами смотрел на Марину. Она чмокнула его в макушку.
— Ты куда? — забеспокоился мальчик.
— Я скоро приду.
И стали они жить одни. Оказывается, можно приспособиться ко всему. Наташа поняла это не сразу, и приспособилась не сразу. Пожалуй, самым трудным было врать маме.
— Ну вот, дочка, — начала торжественно мама, когда Наташа приехала к ней после встречи с Мариной, — теперь будете жить с сестрой. Она теперь вам с Васиком за маму. Слушайся её во всём. Она хоть и не сахар, но сестра тебе, да и настрадалась она в этой своей Гвинее. Живите мирно. Теперь я спокойна — ты не брошена, с родной сестрой.
Увидела на Наташином большом пальце колечко. Обрадовалась:
— Маринка подарила? Хорошая она, Наташа, ты её во всём слушайся… Этот гвинеец мозги ей запудрил, а так — хорошая…
Наташа кусала губы и отворачивалась. Поначалу. Потом приспособилась к вранью.
…Уже совсем стемнело, когда Наташа с братом вышли из больницы. Сегодня она так торопилась, что ничего маме не принесла. Врач сказал, что при депрессии очень помогают грейпфруты и шоколад. Наташа вздохнула — денег у неё осталось с гулькин нос, какие там грейпфруты. Маринка первое время хоть изредка, но заносила деньги. Теперь — перестала. Наташа экономила как могла, вчера вот супу наварила фасолевого. На неделю. А Васька…
Она с досадой покосилась на брата. Тот вышагивал спокойно, держался за её руку, думал свою мальчишескую думу.
— Ты зачем вчера суп пролил? — нахмурила она брови.
— Я больше не буду, — привычно пообещал брат.
— Не буду, — проворчала Наташа, — не будет он. А я из-за тебя сегодня двойку получила. Пришлось заново суп варить ночью. Вместо того, чтобы учить… про жизнь.
Вася виновато опустил голову. А Наташа представила, как она сейчас, уложив брата в постель, сядет зубрить про эту самую жизнь, которая «даётся человеку один раз и надо… нет, и прожить её надо так…» Как? Забыла. Что-то там про мучительно больно…
Вздохнула.
Дни шли. Наташа жила одна. С младшим братом. И тайну эту, как могла, хранила.
|